Человек, который рассказывает картины
- Подробности
- Опубликовано Вторник, 23 Февраль 2010
- Автор: Кирилл Борщев / Senica.ru
 Момо Капор, писатель и художник.
Момо Капор, писатель и художник.
Английская писательница Вирджиния Вулф написала эссе об английском романе XX века, который начала следующими словами: «Когда человек пишет об английском романе XX века, он прежде всего должен вспомнить о русском романе XIX века. А после того, как он вспомнит русский роман XIX века, ему и в голову не придет писать об английском романе XX века».
Давным-давно, году эдак в 1967, жила-была одна Анна. По его словам, сейчас ей могло быть за пятьдесят, у нее могли быть дети и скучный муж, по-прежнему короткие волосы, нелады с деньгами, она бы не поправилась, иногда бы думала о временах своей молодости, когда мир открывался перед ней, словно чудо. Сегодня это усталая, слегка разочарованная женщина, и от всего ее обаяния остались лишь ямочки на щеках, а она, понимая это, пользуется ими даже больше, чем надо. Позже он раскрыл нам мир „Уны“ и „Зои“, распознал „Провинциала“ по следам собственной смешанной крови, не стал выпендриваться в „Понтах”, вместе с Зуко Джумхуром похитил у ночи рассказ об Осман-паше Сархоше, который позже развернулся на страницах книги „Зеленое сукно Монтенегро“.
И, когда все, кто мог это сделать, уезжали, он оставался в Белграде, в городе, в котором рассказы появляются намного интенсивнее, чем где бы то ни было. Он отчитывался перед нами в том, что пережил за недели блокады, задумавшись над письмом от своей старой любви, и только по-богартовски попросил дядю Сэма направить ракеты чуть левее, потому что они мешали ему писать. Где-то в апреле 1937 года аист, несший его в клюве, совершил вынужденную посадку в Сараево. Таким образом ему выпала участь описать судьбу этого чрезвычайно красивого и чрезвычайно несчастного города. Из крох его следов появились „Последний рейс в Сараево” и „Хроника потерянного города”. Он прочитал и написал: „Смерть – это не больно”, и мы поверили ему. Ему верят беспрекословно. Он вымывает золотые крупинки слов из водоворота жизни для своих обычных и необычных рассказов. А ведь это все наши истории, мы читаем их сквозь магию узнавания, понимая, что они всегда были здесь, рядом с нами, просто на них упал этот особенный луч света, извлек их на поверхность нашей жизни и приказал нам шагать по их следам внутри самих себя.
Момо Капор, человек, который рассказывает картины или рисует рассказы - все равно, распят между двумя профессиями как самоуверенный хозяин своего собственного чуда. Он пишет так же, как сапожник мастерит сапоги, а плотник – столы, без мистификаций, которые так свойственны некоторым художникам. Учеба в Художественной академии в Белграде научила его тому, что сначала надо почувствовать, потом понять, что чувствуешь, затем нарисовать это и, в конце концов, продать. И во всем, что было для него важным в жизни, он придерживался этого пути. Так однажды он в шутку сказал, что продал все свои любови. Свои чувства он претворяет в краски, формы, буквы, предложения, поначалу простые, а потом, в более зрелом возрасте, куда менее простые.
Поэтому невозможно определить, к какому типу автобиографической, мемуарной литературы можно отнести его книги, которые по своему исповедальному тону больше похожи на картины из жизни, с ударными тонами, либо без них. Если вы спросите его, как он в этом смысле себя чувствует, то он призовет на помощь Флобера, который сказал „мадам Бовари – это я“. Невероятно простой ответ для человека, который разбирается во всех сортах шампанского и знает все о судьбе торговцев фруктами с Чубуры, для человека, к которому как-то необычно обращаться „господин Капор“, к которому хочется обратиться просто по имени, не забывая о том, что он и господин, и джентльмен.
Мировоззрение в большой степени обусловлено обменом веществ и генами. Капор является сторонником мнения, что детей здесь хорошо бы воспитывать по-другому. Всем известно, что в Африку не везут лыжи и лыжное снаряжение, что в Швейцарии нет ночных карнавалов, а в Шотландии просто непристойно просить шампанское. Точно так же и наших детей с малых лет надо приучать к тому, что человеку, который будет жить здесь, обеспечена интенсивная, содержательная и бурлящая жизнь, что здесь за одну жизнь он проживет целых восемь, но при этом он не сможет ничего оставить своим детям. Нет никакой собственности, кроме той, что вашей голове и ваших руках. Человек какое–то время играет на земле, пытается играть по правилам, а потом уходит, возвращается в тот же прах, из которого он и родился. Остается страшный страх забвения, который мучает всех, кроме художников. Они-то знают, как оставить след, оставить горящий уголек того вечного огня, который будет теплиться для будущей жизни. След, который за собой оставляет Момо Капор, похож на одну-единственую всеспасительную линию – линию сердца художника. Так и „Воспоминания одного художника“, по сути, только подчеркивают этот след. По этому же следу, пользуясь случаем, мы и пишем личную историю России Момо Капора.
– Какие Ваши самые первые ассоциации при упоминании России?
Что-то огромное, бескрайнее, зеленое и теплое.
– Какова Ваша личная история России?
Она начинается во время Второй мировой войны, мне было тогда лет пять-шесть. Я жил в Сараево, оккупированном немцами и усташами. Где-то вдали был слышен грохот, и все мы знали, что это какие-то русские борются против всеобъемлющего зла. Это вселяло в нас надежду. Позже в моем городе находилась часть армии генерала Власова, это были черкесы, полудикие люди на маленьких длиннохвостых лошадях, на которых они по ступенькам въезжали в школу, прямо через дорогу от моего дома. Помню, как мы бегали за ними и кричали – черкес, стреляй! И они палили в воздух из своих длинных ружей. А потом пришли освободители. Я учился в первом классе или во втором, нужно было нарисовать товарища Тито и товарища Сталина. Было ужасно трудно нарисовать Тито, а Сталина легко. Мне сразу удалось нарисовать Сталина, у него были усы, коротко стриженные волосы и мохнатые брови. Когда я вспоминаю этот портрет, я понимаю, что он очень похож на портрет Сталина, который Пабло Пикассо написал в то время, когда еще был в Коммунистической партии. Из-за этого портрета его и выгнали из партии. Его портрет Сталина был словно детский, точь-в-точь, как мой. Тогда в этих дружеских объятиях Советского Союза и Югославии началось что-то вроде социалистического режима в литературе. А именно, нельзя было читать ничего другого, кроме советских писателей. Так и получилось, что я стал одним из крупнейших специалистов по литературе социалистического реализма. Я помню первую книгу – „Тимур и его команда“ Аркадия Гайдара, и ее продолжение „Комендант снежной крепости“. Много лет спустя, в 1968 году, я познакомился с главным героем этой старой книги, Тимуром Гайдаром, который тогда был корреспондентом Российского телевидения в Белграде. Его отец был самым известным советским писателем того времени. Потом были „Белеет парус одинокий“ Катаева, который взял за кредо стихи Лермонтова, потом „Педагогическая поэма“ Макаренко, первая и вторая части. Потом „Зоя Космодемьянская“ Вячеслава Ковалевского, и множество подобных книг. Максима Горького тогда публиковали тиражом в сто тысяч экземпляров, это были коричневые книги с мелким рельефным изображением его профиля на обложке. Интересно, что Горький не был таким уж крупным писателем, чтобы его книги публиковали тиражом в сто тысяч экземпляров в одной полуграмотной стране, но сейчас он не настолько незначителен, чтобы его не печатали вообще. Сейчас невозможно найти его книги. А между тем, Горький - прекрасный писатель. При этом я имею в виду те книги, которые он писал в молодости. Вот где-то там были и „Егор Булычев“, и „На дне“. В то время у нас была и конспиративная литература. Это были довоенные комиксы, которые мы находили на чердаках, какие-то старые книги Карла Майя о ковбоях и индейцах. От Советского Союза и литературы соцреализма нас отдаляла страшная скука, которая перешла и на Югославию. Это было время, когда надо было, как говорил Ленин – учиться, учиться и еще раз учиться. А другая, более интересная сторона жизни – война, которую все мы видели в детстве, была привилегией взрослых. Нам же оставалось строить социализм, что было ужасно скучно.

В это время в кинотеатрах показывали исключительно русские фильмы. Это были фильмы, которые мы любили. Один из них был „Небесный тихоход“ про майора Булочкина. В нем главный герой летает на самолете мимо облака, на котором сидят вороны. А пилот поет: „Потому, потому, что мы пилоты, небо наше, небо наше родной дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки? – спрашивают вороны. - A девушки потом.“ Потом появился „Каменный цветок“ o мастере каменного дела, который смастерил цветок в пещере. Потом „Тахир и Зухра“, любовный фильм из какой-то далекой советской республики, потом „Легенда о сибирской земле“, прекрасный фильм о композиторе, который в военное время в полуразрушенном доме находит концертное пианино „Петрофф“, и на нем сочиняет композицию „Легенда о земле сибирской“. И, что интересно, хотя дом разрушен, пианино сияет новизной, на нем ни пылинки. Потом были „Московские часы“, а потом фильм, в котором Марк Бернес поет песню „Tемная ночь“.
Когда после разрыва с Советским Союзом появился первый американский фильм „Бал на воде“, мы все посмотрели его раз по двадцать.
И действително, прошло много лет, прежде чем я снова вернулся к России, открыл для себя русскую литературу, но не эту, а ту, настоящую, главную. Английская писательница Вирджиния Вулф написала эссе об английском романе 20 века, который начала следующими словами: „Когда человек пишет об английском романе 20 века, он прежде всего должен вспомнить о русском романе 19 века. А после того, как он вспомнит русский роман 19 века, ему и в голову не придет писать об английском романе 20 века“
Итак, пришло время моего возвращения к русским классикам, к тем самым прекрасным писателям, которых подарила русская земля, таким, как Антон Павлович Чехов, книги которого я все еще держу у своего изголовья. Русская литература 19 века является для меня источником большого вдохновения. Когда мне хочется прочистить ум, дух, голову, когда я хочу проветрить себя, тогда я беру в руки любую книгу 19 века, может быть даже 20 века, поэзию, например. Будучи мальчуганом, я любил Маяковского, точнее, его поэму „Облако в штанах“. Конечно же, я любил читать и Есенина, а позднее и Высоцкого, с которым однажды познакомился и напился в Белграде. Мы с Данило Кишем открыли его для себя одной ночью в Клубе писателей, где он сидел с какими-то людьми из посольства. Конечно же, к нему был приставлен сотрудник КГБ, от которого мы вскоре избавились, а потом мы напились. Высоцкий же оказался на гастролях в Белграде, потому что он играл Гамлета в Театре на Таганке у Юрия Любимова. Высоцкий был отличным Гамлетом. Потом мы все в изрядном подпитии доползли до его гостиницы Топлице на тогдашней улице 7 июля. Высоцкий оставил нас в холле, поднялся в свой номер, но вскоре вернулся и подарил нам кассеты со своими песнями. В это время у него еще не было ни одной пластинки. Он дал нам кассету, на которой были записаны блатные песни из Сибири – это было потрясающе.
– Каким был Высоцкий, каким Вы его помните?
Он был невероятно обаятелен. Мы с Кишем пришли в Клуб писателей, потому что все остальные заведения были закрыты. Помню, было несколько свободных мест только за столом, за которым сидели наши руководители и советские дипломаты. Киш сразу же начал нападать на коммунизм, говорить, что это невиданная глупость. Все в недоумении смотрели друг на друга, а потом стали расходиться. Наши вспомнили, что у них встреча как раз в полночь, очень важная встреча, а русских как раз осенило, что им необходимо лечь пораньше... В конце концов ушел и сотрудник КГБ, который сопровождал Высоцкого. Над тирадами Киша за столом смеялся только один человек – и это был Высоцкий. Киш спросил у него, почему он смеется, на что он ответил: „Потому что я думаю так же.“
– Мы говорим о Высоцком, но, если я не ошибаюсь, Вы познакомились и с Окуджавой?
Да, я познакомился с ним, когда он выступал на концерте в Загребе. Это было очень давно. Окуджава рассказывал мне и Арсену Дедичу, что у него был концерт в одном большом зале в Москве, он сидел на сцене один, с гитарой в руках, и потом, кокетничая, сказал публике: „Вы знаете, я не умею хорошо играть на гитаре, могу только подыгрывать своим песням, да голос у меня не ахти, и песни, которые я пою, не бог весть что, потому что я написал их сам.“ И тогда кто-то из публики выкрикнул: „Ну и зачем ты тогда пришел на концерт?“ В своей синтетической ветровке, ремне с большой пластмассовой пряжкой, ужасных ботинках и мятых брюках Окуджава выглядел как бедный усатый родственник из провинции, но он излучал такое тепло, которое я и по сей день не могу забыть. Он пел нам „По смоленской дороге“ – а это, кстати, дорога, по которой солдаты отправлялись на войну. Это одна из самых красивых песен, которые я когда–либо слышал, и я всегда напеваю ее с удовольствием.
– Значительно позже Вы встречались с Никитой Михалковым.
Никита - гений чистой воды. Я видел несколько гениев на своем веку, и один из них - это он. У него такая харизма, что это просто невероятно. Во время блокады, когда никто не приезжал в Белград, мы организовали БЕЛЕФ, Белградский летний фестиваль. Мы пригласили Никиту Михалкова, и все сказали нам, что мы сошли с ума, что этому не бывать. Никита приехал в Белград, и под мышкой у него были бобины с фильмом „Анна“.
– Что за фильм? Мне не довелось его посмотреть.
Он снимал свою дочь Анну с двух-трех лет до восемнадцати. Он всегда задавал ей одни и те же вопросы, каждый год: что ты любишь, что ты не любишь, чего ты боишься. А между ее ответами он вмонтировал документальные материалы, которые появлялись на телевидении. Таким образом он показал движение времени. Первым ответом маленькой Ани на вопрос, что она любит, был „мороженое“. Аня не любила борщ, боялась Бабы-Яги. Уже в десять лет Анна скажет, что она любит, когда среди людей царит мир, что не любит врагов мира, что боится за здоровье товарища президента. Уже просматривалась индоктринация. Позже я спросил Никиту, каким образом он это допустил. Я очень хорошо помню его ответ: „Я мог бы сделать из нее маленького диссидента, потому что в нашем доме говорили по-другому. Но это было бы неправильно. Она сама должна была пройти через эту ложь, инфицироваться ею и выработать свой иммунитет.“ Видите, как это точно!
Кстати, это Никита виноват в том, что я снова начал пить. Однажды мы сидели за каким-то длинным столом, ужинали, я тогда не пил. Никита заказал двойной виски, а я минеральную воду. Он спросил меня, что случилось, и я сказал, что бросил пить. Конечно, этот номер у меня не прошел, и я снова начал пить. Помню, мы заговорили о русской литературе 19 века. Я сказал, что знаю прекрасное предложение, которое описывает 19 век в русской литературе. Никиту очень интересовало, что это за предложение. „Надо заниматься чем-то возвышенным, сказал Обломов, зевнув“, и тогда он подскочил, словно угорелый, расцеловал меня, потому что это было и его любимое предложение. В это время Никита снимал фильм об Обломове. Вот так и началась наша дружба на расстоянии. Никита часто приезжал сюда, он пел нам под гитару, он прекрасно поет, рассказывал самые смешные истории, которые у меня всегда вызывают улыбку, стоит мне только вспомнить о них.
– Вы мне говорили, что однажды он рассказывал Вам об основной разнице между русскими и американскими фильмами.
Помнится, я спросил его, заметил ли он, что все американские фильмы одинаковы. Там есть черный полицейский и белый полицейский, они напарники и всегда гоняются за рыжим злодеем из Европы. У него волосы чуть длиннее. Полицейские гоняются за ним по первой программе, ты переключаешь на вторую, а они уже уже паркуют машину в Нью-Йорке, на том месте, где с 50-х годов никто не паркуется. Тот, у кого в Нью-Йорке есть машина, постоянно держит ее на одном и том же месте и вообще на ней не ездит. Потом черного напарника убивают, в него стреляют и он падает, а у белого напарника отнимают удостоверение и пистолет. Потом выясняется, что его шеф связан с мафией. Белому полицейскому все же удается разоблачить его, ему возвращают удостоверение и пистолет, и он женится на женщине-адвокате, которая его защищала. В итоге выясняется, что черный напарник не убит, а только ранен. Об этом вы узнаете уже по третьей программе.
Тогда Никита спросил меня, заметил ли я, что в любом американском фильме погибает по меньшей мере сто человек. Людей взрывают, стреляют в них, отравляют, убивают разными способами, и никому не приходит в голову задуматься о том, есть ли у них матери, сестры, дети, и что будет с ними. А между тем, 150 лет тому назад один студент в Петрограде убил бабушку. И по сей день люди пишут доклады и докторские диссертации о случае Преступления и наказания. Основная разница между ними и нами состоит в том, что они задают себе вопрос „как жить“, а мы – „ради чего жить“.
Самые интересные истории Никита рассказывал о своем главном операторе, который участвовал во Второй мировой войне, о том, что это самый ловкий человек в мире. Однажды туманной ночью он пошел за ужином и вернулся в окоп с котелком грибного гуляша. Кто-то спросил его, откуда он это взял. Тот ответил – из общего котла. „Какой котел, сам видишь, какие помои мы едим!“ - не мог поверить его боевой друг. А как все получилось? Человек был настолько голоден, что в тумане сумел пробраться на немецкую сторону и там, у общего котла протянул свой котелок. И ему положили еды.
Как-то раз они снимали фильм с Марчелло Мастрояни...
– Механическое пианино.
Съемки проходили в области, где отродясь не бывал ни один иностранец. Возвращаясь в свой номер в гостинице, Никита услышал трехэтажный мат. Он приоткрыл дверь и увидел своего главного оператора, обучающего Марчелло Мастрояни азам русской матерщинной лексики. Следующим вечером состоялся большой прием, на который пришли мэр города и секретарь комитета. Хозяева попросили товарища Мастрояни выступить с речью. Марчелло встал и стал крыть всех отборным матом.
– А Вы сами ездили по России?
В России я был один раз, в 1968 году. Как раз тогда советские танки вошли в Чехословакию, и следующим государством, куда они хотели войти, была наша страна. В то время я был пресс-секретарем Югославской хозяйственной выставки, которая проводилась в Ленинграде. К сожалению, на выставку почти никто не мог прийти, поскольку она была оцеплена милицией. Отношения между нашими государствами в то время были ужасными. Поскольку у меня не было работы, я весь день проводил в Эрмитаже, а именно на четвертом этаже, над лестницей, где были выставлены полотна Сезана, знаменитый Танец Матисса, картины импрессионистов и современных французских художников, даже Пикассо. Я до сих пор жалею о том, что все время проводил на том этаже, и ни разу не спустился посмотреть Рембрандта, Леонардо, голландских мастеров. Я был очень молод.
В это время из Советского Союза возвращались толстые бизнесмены с фотографиями Тамар, Наташ, Людмил – молодых красавиц, влюбленных в них. Помню, я все время задавался вопросом в чем тут дело. А ларчик просто открывался. В то время НКВД приставлял этих девушек к потенциально важным людям для того, чтобы разведать, что они обо всем думают, и таким образом очень практично содержали своих шпионок. Отличный ход. Сегодня такие красотки стоят очень дорого. Куда важнее то, что в это время в трамваях, метро, автобусах сидел этот убого одетый русский народ и читал Достоевского и Толстого, пока наши щеголяли в нейлоновых рубашках и хвастались тем, что у них есть жевателные резинки и бульонные кубики. Было унизительно смотреть на это хамство в отношении интеллигентного, воспитанного и культурного народа, буквально на ходу читающего книги авторов, о которых наши никогда даже не слышали. Последние же оплачивали дорогие ужины, заказывали шампанское, цена за бутылку которого приравнивалась к зарплате русского профессора. В гостинице на каждом этаже за столом сидела немолодая строгая женщина и следила за тем, кто в какой номер идет. Когда я поднимался на этаж, то кричал: „Дежурная по этажу - это звучит гордо.“ И она разрешала мне провести с собой одну из манекенщиц, потому что на выставке было очень много наших манекенщиц. Потом мы устраивали сабантуй. Мы выходили из своих номеров и входили в чужие номера. И она уже не могла контролировать, кто в каком номере.
– Одним из феноменов России является и эта особенная, столько раз воспетая, описанная в книгах и написанная на полотнах красота русской женщины.
Даже если они полные и не очень привлекательные, все равно у русских женщин самые обворожительные глаза в мире. Этот зелено-голубой цвет глаз - как лазер. Они вас просто завораживают.
– У меня такое ощущение, что эта русская романтика: снег, тройка, колокола, просторы, березы, у нас прививалась через одинаковый генетический код. Как Вы воспринимали такую романтику?
Для меня это была растраченная поэтика. Как пластинка, которую ты много раз слушал. Меня восторгало совсем другое. Русское искусство. Год назад я съездил в Дюссельдорф, чтобы посетить крупную выставку произведений современного искусства из русских музеев. Некоторые из них я уже знал, видел их в Эрмитаже и в московских музеях. Я стоял, в который раз завороженный Казимиром Малевичем, человеком, который довел живопись до самого края – черным квадратом на белом фоне. На этой выставке параллельно выставлялись полотна французских и русских мастеров одной эпохи. Тут несомненно и совершенно четко было понятно, что авангард придумали вовсе не французы, а русские. Это был настоящий отрезвляющий момент. Теоретически, это было известно и раньше, но в другой форме. Скажем, Малевич творил в 20-е годы. Здесь же и Шагал, когда он писал Витебск, свой родной город, Кандинский, который придумал абстрактную живопись. Я уже не говорю о менее известных, но значительных художниках. Тогда я совершенно четко понял, что французы на самом деле нас всех провели, присвоив право первенства, и что в этом им помог Сталин, который в первое время вместе с Лениным привлекал к работе всех этих художников. Один из них, Татлин, даже сделал эскизы для большой скульптуры на тему Третьего интернационала, это известная скульптурная композиция. Все они свободно работали в первые годы после революции. Шагал был комиссаром, курирующим изобразительное искусство в своем городе, что-то вроде министра. Но потом их всех выгнали и они уехали в Париж. Россией стали „править“ художники социалистического реализма, среди которых самыми популярными были братья Герасимовы. Очень давно у них была своя выставка здесь, в Белграде. Но позже произошел один из самых знаменитых поворотов. Семьдесят лет спустя социалистический реализм, отброшенный как ложное искусство, снова возвращается, потому что представители соцреализма прежде всего были большими мастерами живописи. Они не скрывались за абстракцией, они писали как старые мастера. Спорными были лишь темы, но если, например, Эдуард Мане, нарисовал бы поле и реку, то трактор, который он должен был бы нарисовать, вообще ему не помешал бы. Есть один прекрасный анекдот о двух советских художниках. Одного постоянно приглашали выставляться, а второго - нет. Неуспешный спросил успешного: „Как тебе это удается?“ И услышал ответ: „Видишь ли, я рисую чугунолитейный завод метров эдак шесть на четыре, а в правом углу - болонку. Жюри приходит, говорит, что картина превосходна, и спрашивает, для чего мне эта болонка? Тогда я им говорю: Не вопрос, я ее уберу. И замазываю ее.“
Старые художники-соцреалисты сейчас снова входят в моду, и цены на их полотна в Нью-Йорке очень высоки. Их покупают богатые русские. Все в корне изменилось. Бедные русские, которые на наших приморских курортах питались рыбными консервами, черствым хлебом и спали в палатках, сегодня покупают апартаменты в гостинице Ричмонд в Женеве, а это же королевские апартаменты. В Цюрихе, в центральном офисе Ролекса висит реклама – „для русских – скидки“. Правда, это те русские, которые понятия не имеют ни о Чехове, ни о Казимире Малевиче. Это русские, которые ограбили свою страну, точно так же, как и наши олигархи. И снова все перевернулось с ног на голову. Сегодня двое русских встречаются в Париже. Один из них только что купил новую рубашку за 200 евро. „Ты с ума сошел“ – говорит ему приятель – „Вон за углом точно такая же, но за 350.“
– Какова роль России в судьбе Сербии? Является ли Россия неиспользованным сербским шансом?
Думаю, что Запад пытался, и какое-то время это ему удавалось, вытеснить русское влияние на Балканах, особенно в Сербии. Но Сербия тогда была похожа на аборигена, который тащится от пестрых безделушек, кока-колы, мальборо, хард-рока, моды... Кажется, что мы всем этим в достаточной мере насытились. Сербы дошли до такой точки зрелости, в которой они больше уделяют внимания сути, даже неосознано. А суть – это Россия. Помогали ли нам русские когда-то, препятствовали ли они нам, рассудят историки. Но Ерофеев, русский писатель, написал, что Сербия - единственнная страна в мире, где действительно любят русских.
– Шпенглер утверждал, что Россия и Америка являются странами новой энергии. Что Вы думаете об этом сравнении?
Россия проснулась. Она долго, как медведь, спала в социализме, в этой диктатуре лжи. Россия медленно просыпается. Она уже ищет свое место и здесь, у нас. И я думаю, что она потихонечку находит его. Только на этот раз без помощи танков и автоматов Калашникова. На смену им пришла экономика, и это хорошо. Факт в том, что русские зря пытаются завоевать любовь некоторых сербов, ведь наша любовь к ним не была утрачена. Мы всегда любили Россию. Даже когда русские не правили нами, мы все равно были в их власти - через искусство, через литературу и живопись.
– Кто из русских является Вашим личным героем?
Высоцкий. К сожалению, его погубила Марина Влади. Она написала самые подлые мемуары, в которых рассказывает о нем. Для меня же Высоцкий, о котором говорят, что он умер от жизни - настоящий герой, артист. Что-то вроде Луи Армстронга, если бы у него была русская душа.
– Были ли у Ваших друзей с русской душой: Шейки, Оли, эти узнаваемые русские гены?
Нет. Ни следа. Они были так же, как и все мы в то время, прозападно ориентированы. Потому что искусство, которое мы боготворили, приходило к нам с Запада, а не из России, в которой балом правил соцреализм. В это время советское постоктябрьское искусство не особо пользовалось популярностью, кроме Малевича и Кандинского, мы мало знали о нем. Мои друзья были западниками, но поскольку они родились и росли здесь, как сербы, в них было столько же русской души, сколько в любом из нас. И только Оля всегда походила на обедневшую русскую графиню в эмиграции. Моему поколению жены русских генералов и полковников, эмигрантки престарелого возраста, которые так и не смогли выучить сербский язык и говорили на нем с очень смешным акцентом, запомнились мехами, шубами и шапками. Они жили в своем мире, который пытались перенести из России в своих интерьерах, картинах, фотографиях, абажурах, лампах. И всегда где-то рядом был самовар, одна из тех редких вещиц, которые им удавалось привезти с собой. Как правило, у них было старенькое пианино, на котором они играли.
Русские сыграли решающую роль в поднятии Белграда, типичного турецкого городишки, на более цивилизованный уровень. Они основали первый лодочный клуб на речном острове Ада Циганлия, и я стал членом этого клуба. Русские поднимали оперу, балет, они были лучшими сценографами. Лучшим автором комиксов был Лобачев, русские архитекторы проектировали самые красивые здания в Белграде. В Белград прибыла русская элита, которая верила, что революция - это стихийное бедствие, что оно пройдет, и они быстро вернутся в свои дома. Их принял король Александр, и они осели здесь. Когда в 1945 году коммунизм снова пришел, самые несчастные из них убежали на Кубу, где он снова застал их в 60-е годы. Вот что значит быть невезучим.
– А Пушкина мы как-то обошли стороной?
Ни в коем случае. Он превосходит всех остальных. Александр Сергеевич Пушкин это природный чудо-талант, величайший мировой поэт. Не все знают, что это он подарил Гоголю сюжет для Мертвых душ и Ревизора. Это он расссказал Гоголю о Чичикове, который покупает мертвые души. А Чичиков является прообразом Остапа Бендера. Но и сам Пушкин не знал, как закончить роман, и поэтому роман Гоголя заканчивается тем, что тройка улетает вдаль, через степь, в новую Россию. Также не всем известно, что Пушкин написал пьесу Моцарт и Сальери, по которой снят фильм Амадей. Пушкин - единственный поэт, стихи которого я знаю наизусть. У меня был прекрасный учитель русского языка, его фамилия была Золоторенко, он был из белых. Бывало, что он увлекался на уроке и начинал рассказывать военные истории. И вот он говорит: „Скачем мы на конях с одной стороны реки, а с другой скачут красные. И, спохватившись, умолкал. Мой учитель русского языка утверждал, что великий писатель – это тот, кто может рассказать всю историю в первом предложении. Таким был Чехов: „Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой.“ Из этого ясно, что на курорте скукота, все уже сказано и пересказано, и вот появилось новое лицо – какая-то красотка с небольшой собачкой. Может быть, с болонкой.
Драгана Маркович (перевод на русский язык Славицы Джукич)
Материал предоставлен редакцией журнала Русиjа данас.


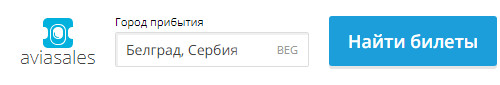


 С начала года до середины июня Музей истории Югославии посетило 34,5 тысячи человек, что ставит его на первое место среди всех остальных музеев Сербии по посещаемости.
С начала года до середины июня Музей истории Югославии посетило 34,5 тысячи человек, что ставит его на первое место среди всех остальных музеев Сербии по посещаемости.  Компания MasterCard провела исследование MasterIndex интенсивности использования банковских карт в Сербии.
Компания MasterCard провела исследование MasterIndex интенсивности использования банковских карт в Сербии.